Владислав Ирхин
Стихи о Петербурге
-
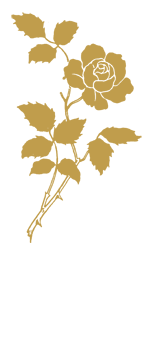 Ленинграду – Петербургу посвящены более 20 стихотворений и величественный гимн «Так живи, мой град!», именно здесь разворачивается действие поэмы «Кленовая ветвь». Санкт-Петербург — не только самый любимый город Владислава Ирхина, но и роковой для его судьбы. Во многих стихотворениях звучат нескрываемые трагические ноты: так, в стихотворении «Прощание с родиной» зашифрованы воспоминания о дружбе с однокурсником по училищу им.Фрунзе Валерием Саблиным — офицером флота, поднявшим в одиночку мятеж на корабле и расстрелянным в 1976 г.
Ленинграду – Петербургу посвящены более 20 стихотворений и величественный гимн «Так живи, мой град!», именно здесь разворачивается действие поэмы «Кленовая ветвь». Санкт-Петербург — не только самый любимый город Владислава Ирхина, но и роковой для его судьбы. Во многих стихотворениях звучат нескрываемые трагические ноты: так, в стихотворении «Прощание с родиной» зашифрованы воспоминания о дружбе с однокурсником по училищу им.Фрунзе Валерием Саблиным — офицером флота, поднявшим в одиночку мятеж на корабле и расстрелянным в 1976 г.
Так живи, мой град, живи!
Но всегда первых слов не найдешь —
не до прозы.
Только губ неподсудная дрожь,
дрожь и слезы.
Но к строке прибавляя строку
в чувствах нежных,
я прильну к тебе, как к роднику
чар небесных.
Я люблю твой державный простор
и поныне.
Здесь возносится дух наш и взор.
Здесь — святыни.
Припев
Так живи же, мой град, живи!
Всем, кто был на твоем просторе,
в кровь вошло Балтийское море,
ну а в веру — гранит Невы.
Здесь божественнее молитв,
приподнявши своды руками,
как архангел в бронзе и камне,
над Россиею Петр парит.
И пока не дано мне упасть
сбитой птицей,
полечу к тебе вздохом припасть,
покружиться.
И пока, и пока не дано умереть
и сломиться,
я приду на тебя посмотреть,
помолиться.
Припев
Но всегда первых слов не найдешь —
не до прозы.
Только губ неподсудная дрожь,
дрожь и слезы...
Романс
И опять Петербург. И луна. И цветы.
И мужчина встречается с женщиной...
Как же хочется нам неземной чистоты,
как же хочется краски божественной.
Чтоб, конечно, камин и, конечно, рояль,
и романс, и романс на два голоса,
где такая тоска и такая печаль,
чтобы сердце мое раскололося.
Чтоб сгорела вся жизнь за одну эту ночь
(что теперь им искать виноватого?),
чтобы так излюбить, чтобы так изнемочь,
чтоб наутро от них — только радуга.
С каждым годом больней на подмостках надежд
в наших душах идет представление,
и виденья зовут стоном сладостных бездн,
и от музыки нету спасения.
На каких рысаках унестись, убежать
к этим волнам тумана каминного,
унестись умирать и опять воскресать
под аккорды романса старинного?!
Вот — мужчина взорвал за собой все мосты.
Вот — случилась трагедия с женщиной...
Дайте, дайте испить их святой чистоты,
дайте сердцу их муки божественной.
И чайка, с гранитного взмыв парапета,
замрет и зависнет на невском ветру
гвоздикой, летящей в петлицу поэту,
за все крутоверти его на миру.
Во дни расставанья с тобою — до встречи —
сиротской слезою по миру плыву.
Во дни расставанья, по капле сердечной,
твоей красотою держусь и живу.
От стойки трактирной и свары житейской
господь отводил мои как-то пути.
Но с игл Петропавловки, Адмиралтейства
живым мне уже никогда не сойти.
Когда я иду чрез Дворцовую площадь,
мне мнится в немолчной волшбе-ворожбе —
каменья твои я, как конь и извозчик,
на пиршество зодчих таскал на себе.
В часы одиночеств не франтом галантным
слоняюсь по Стрелке и душу травлю —
искорчусь сатиром, изгорблюсь атлантом,
не вставленным в кладку твою.
И в этом, и в этом был умысел божий.
Он ткал наши узы. Он степень родства
завел дальше духа, и плоти, и кожи,
и крови — до бреда и неестества.
И вся моя жизнь будто с жизнью прощанье,
но вдруг прозреваешь, сомкнувши уста:
слова мне нужны были в самом начале,
а дальше открылась молитв немота.
Молюсь на тебя, пока сердце не дрогнет
на диком, безумном витке бытия.
Молюсь на тебя, мой чертог и острог мой,
в слезах, как блаженный, на паперть твоя!
И слезы мои все алмазами полны.
И звон колоколен по-ангельски тих.
И ветер колышит зеленые волны
страницами сладких неизданных книг.
22 августа 1996
Песнь (и пляс) о поэте
Веры ль нет, друзья ль не те, сам ли рохля?
Так и сдохнешь в нищете, так и сдохнешь.
И не сжалится никто — скажут: „плакса!”
Ну а девкам — им-то что? Баксы, баксы, баксы.
Где уж виски тут со льдом? Где тут бренди?
Камер-юнкер — нынче бомж в драном секнд-хенде.
К Воронцовым — не попасть. Керн — дуркует.
Там не в масть. И тут не в сласть. И поэт — банкует.
Припев:
А Россия вся танцует под „цыганочку“ — „эх, пей до дна!“
Все в обнимочку, в развалочку — „плыви ладья!“
Можно вроде персияночку и снять взаймы.
Можно вроде у Володи, на манер Кузьмы.
...Но почему-то, но почему-то
тоска под утро, тоска под утро,
и словно с петель рванули дверцы,
навстречу к богу метнется сердце...
А тут как раз вовсю пошел припляс:
и Черных речек — как в храмах свечек,
тех страшных речек, где выжить нечем,
где не помолится никто за нас.
Что у века на уме? Сходит крыша?
Нету правды на земле. Нет её и выше.
И гудит, гудит братва в стиле бала,
чтоб народная тропа к нам не зарастала...
И смеясь в лицо судьбе, в жанре „порно“
воздвигаю я себе... вновь нерукотворный...
И глядит другой Дантес без боязни,
дотащу ли, нет ли крест к месту своей казни?
Припев
А в Петербурге — сплошь балы. В честь Минервы.
Ах, как кружит Натали! Перлы так уж перлы!
Но зачем вблизи Дантес вездесущий?
„Па-де-де“ да „по-ло-нез“, но курок уж спущен...
Пуля, пуленька, сверни — в степь ли, в море!
Что молчите, звонари? Разве вам не горе?
Громыхнул слышней громов ВЫЗОВ СВЕТУ,
но не тронул дураков плач „На смерть поэта“!
Свалят, суки, на судьбу: „мол, разиня!“
И к позорному столбу встанет не Россия.
Дочери моей — Марине
За одно на губах только хрупкое слово — Трезини,
за один только вздох на барочных ковчегах Растрелли,
нам такою каймою глаза подвели, подслезили,
что душа иногда еле держится в теле.
Но один этот пир белоснежный у Адмиралтейства,
но скульптур хоровод и ампирный хоралл колоннады
к нашим мукам взойдут, словно отдых к святому семейству —
и душа у судьбы не попросит пощады.
Под багровый закат над свинцовой над невской водою,
под поверженных льдов у чугунных мостов песнопенье
примем жребий сполна, не сломясь, не упав под бедою,
и допьем до конца эту горькую чашу терпенья.
Этот лепет слогов у подножья священного града
будет нам как Псалтирь на любую лютую годину.
Этот город нам стал драгоценнее мирры и злата,
он как Мекка для нас, наш Акрополь и Рим — все один он.
Этот обморок чувств над обрывками каменной книги
нас живьем проведет сквозь все дыбы, и плети, и путы,
и святою водой окропит наши версты и лики,
и любовью спасет нашей жизни подбитое чудо.
И когда нам весна одиночеством вытянет жилы,
и на самоубийстве все мысли сойдутся в апреле,
ты возьми под язык только хрупкое слово — Трезини,
ты по сходням взбеги на барочные бриги Растрелли...
Прощание с родиной
И Петропавловки шпиль в ледяной отраженный воде,
и упоенье свободой у невских широких гранитов...
Как присягали отчизне мы в нашей почти нищете!
Как возносилися духом, питаясь одною молитвой!
Молодость наша! Ужель (как в песочных чаcах
время — по малой песчинке, по блику, по дрожи)
твой океан в развеселых волнах-парусах
вытек, и дно обнажилось, с могилою схоже? О боже!
Молодость наша! Блажен был твой светлый порыв!
Да не течет только к горлу, не ластится к сердцу услада.
Сколько хрустальнейших кубков разбил этот пушкинский миф!
Сколько же отроков дивных отвел он от божьего града!
Миф об отчизне! Какая уловка судьбы!
Дух вольнодумства крыла расправлял нам другою картиной.
Что нашим женам в терновых венцах наши лбы?
Что им Россия, когда в ней повенчан алтарь с гильотиной?!
Что мирозданью, что богу воспетая кем-то страна,
где неразрывность судеб все священнее, но и все горше?
Не было спору: Россия для сердца, для пылкого сердца навеки — одна!
Но ведь и жизни господь даровал — на все веки! — не больше.
Сколько нас было — взлетевших на крыльях надежд
к звездам, к дельфийским просторам, к сладчайшим объятьям
муз Аполлона, откуда виднелся рубеж
рая, и мы ликовали, как птицы, как дети, как братья.
Сколько нас было, восжаждавших нег и свобод...
чтоб, как волков, затравить нас в облаве, в загоне,
чтоб от бессилья те — спились, а эти — шли на эшафот,
только б не зреть этот фарс на сюжеты шекспировских хроник.
Кто мог помыслить, что в самый трагический час
нас предадут, как иуды, забудут о нас, как манкурты?
„Ах, вы хотели — куда? — на Олимп?! И еще? — ах, еще на Парнас!
А не хотите ль сыграть в величайшем театре абсурда?“
И — самых пылких, мечтавших о славе, как скот, повели на убой —
увеселять мясников! Нас! — в ревущую пасть колизеев?!
Вот и смеемся, смеемся в психушках над скорченной нашей судьбой,
только в глазах больше слез, чем у раненых насмерть газелей.
Страшно всходить по ступеням бессмысленных, зверских голгоф.
Страшно смотреть, как разбухли, как святцы разбухли от крови.
Но безысходней, когда после пушкинских строф
сердце вакханки рыдает сплошным сквернословьем.
А ведь вчера еще — бал, еще дышит, как розы, дворец,
сумрак свечей, и аккорды, и вальса старинного звуки,
и на плечах, будто чайки, как сон, как обряд, как венец
братства — вспененные музыкой нервные женские руки.
А ведь вчера еще — пунш, поцелуи и клятвенный пик
ночью у сфинксов. В Неву мы бросали монеты,
и, обнявшись, пели гимны, и знали, что каждый велик
будет в эпохе, и все — офицеры, гераклы, поэты.
Все можно было б стерпеть, но не ад. Но не бред
небытия. Но не страшную тяжесть сознанья,
что ни по образу, ни по подобью тебя уже начисто нет —
попрана жизнь! — и от жизни одна только видимость, майя,
что день и ночь пьешь, как пойло, кровавых кошмаров отвар:
вера, надежда, отечество — в перемолоте,
и лучше — сразу, как к солнцу когда-то Икар:
если распятым, то — к богу в последнем полете.
Евгению Большакову
Может, сядем у сфинксов с тобой
да по рюмочке, да по другой,
глядь — и в сердце пребудет отваги?
Иль с тобою мы впрямь бедолаги,
иль с эпохою что-то не то,
но скрипеть стало все в колымаге,
и уходит как сквозь решето.
Ну, конечно, мы нынче — не те.
Только та лишь любовь к красоте
нас ведет через все передряги,
и чего нам рядиться с судьбой,
ну уйдем, ну в цыгане, в бродяги
под божественный свод голубой,
в ту сирень под грозою в овраге.
Мы же — русские. Третью налей.
Не жалей, говорю, ни о чем не жалей!
Как чарующи белые ночи!
Сердце, — чувствуешь? — не кровоточит,
а кузнечиком тихо стрекочет,
а по жилам — огонь, огонь,
и с небес к нам... крылатый конь.
15 июня 1997
Ольге Берггольц
Мечты не отнявший, мечты не поправший,
для ока, для слога спасением ставший,
в разрывах, в навесах дождей и ангин
за морем, за лесом любимый один.
А годы, как пули: то рыщут, то лижут.
Но как ни пригнули — все помню, все вижу:
за мглой полустанков (а вдруг это сон?)
был вылет моста у Ростральных колонн.
А дальше, направо, где ветер — рывками,
за Адмиралтейством (а может, в душе?)
был камень отвесный, был всадник на камне,
а дальше, а дальше — Россия уже
и... белые ночи.
